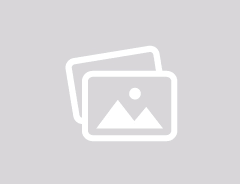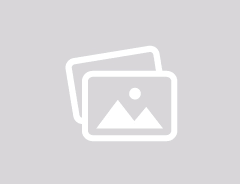Внимание, говорит художник: Леся Хоменко
Материал подготовлен Ксенией Малых
Фото: Макс Роботов
Леся Хоменко — украинская художница. Окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры Украины, после этого была резиденткой Центра современного искусства при Киево-Могилянской Академии и Лейпцигской международной программы по искусству. Хоменко является соучредителем и членом художественной группы Р.Э.П. и кураторской ассоциации «Худсовет». Дважды номинировалась на Премию PinchukArtCentre, а также на премию Future Generation Art Prize и Художественную премию им. Казимира Малевича. Завтра, 3-го ноября открывается персональная выставка художницы «Ступ» в арт-центре «Closer» и продлится до 21 ноября.
На личном опыте я заметила, что художник интересен, как свидетель событий или даже живой экспонат не в меньшей мере, чем автор своих работ
Когда я занимаюсь живописью, я впадаю в состояние повышенной выносливости, интенсивной работы ума. Я как будто на каких-то стимуляторах, хотя я никогда их не принимала.
Сейчас для меня пришло время подбивать итоги профессиональной деятельности. Я готовлю персональную выставку и издаю каталог. Но точку я не ставлю, мне хочется поставить троеточие. Я пытаюсь все свои проекты сделать с максимально открытой концовкой, раскрытыми рамками.
Работая над групповыми проектами или с другими медиа, я накапливала идеи, которые во многом связаны с живописью. На меня очень повлияло то, что я начала общаться с Максом Роботовым, арт-группой Свитер, Иваном Светличным. У меня полный блокнот идей.
Р.Э.П. подвел итоги своей десятилетней деятельности. Мы издали книгу, она очень глобальная. Еще не было презентации, но как сказал Юрий Онух: «Теперь и умирать можно». Книга каталогизирует наименьшие наши работы, интервенции, жесты. Мы это все сохранили, иначе это просто забудется, поскольку в Украине есть большая проблема с архивацией, с историческим мышлением. Сейчас нам (членам группы Р.Э.П.) интересно свой персональный опыт представлять в виде каких-то формальных обсуждений. Поэтому сейчас мы перешли в формат лабораторной работы. В группе все очень сильно изменились. Все стоят на разных идеологических платформах. Мы много спорим, и эти споры приводят к идеям новых работ.
Мы все знаем, что культура в Украине существует скорее вопреки министерству культуры и чинить надо все. Но я бы начала с реформы в образовании
Я могу много чего делать ради денег. Я, например, могла бы спокойно красить что-то. Но, конечно, приятнее делать то, что интересно. Если заказ не противоречит собственным стратегиям, то под работой можно поставить подпись. Как-то я расписывала онкоотделение в больнице. Но там не разгонишься концептуально. Это было помещение, где пациентов облучали, где человек остается наедине с этими росписями. Очень сложно работать с вынужденными зрителями искусства. Во львовской больнице, например, я чуть-чуть поигралась с локальным патриотизмом. Я сделала развернутый горный ландшафт в 17 метров длиной. И его невозможно посмотреть целиком, потому что стена загибается. Я сначала нарисовала ландшафт, похожий на Карпаты, далее все перешло в скалы, а потом горы раздвигались и появлялось море. Такой собранный пейзаж несуществующий. Это была игра с тем, что если горы – то обязательно Карпаты, а они получились неожиданно улучшенными. Как и медицина делает – убирает ненужное, а нужное добавляет. И я добавила там чуть моря, скал. Ко мне подходили многие врачи, просили нарисовать такое дома, но я им объясняла, что дома я не рисую, что обычно заказами не занимаюсь. Но многие делают и такие заказы, и для них это творчество. Это нормально.
Чтобы ни на какие компромиссы в искусстве идти не приходилось, я заработатывала, преподавая. Я просто очень люблю преподавать. Когда я занималась с детьми, это была отдельная сфера деятельности, но сейчас я занимаюсь с группой в КАМА. Чем дальше, тем больше для меня становится работа со студентами моей лабораторной работой. Я думаю, что в этом могу пойти намного дальше. Например, преподаю не только студентам на факультете искусства, но еще и фешн дизайнерам. С ними мы работаем над отбором визуального материала и созданием формы. Мне это интересно, потому что для художника поиск формы – всегда проблема. Наше поколение всегда апроприирует форму из чего-то. А вот так взять и сделать абстрактную форму – это для нас проблема. А в фешене, оказывается, есть такие бредовые техники, чтобы найти эту форму. Я постоянно говорю студентам: мы должны отключить мозги. Фешен имеет такую специфику – если это не будет приносить денег, ты не сможешь этим заниматься. В искусстве — наоборот.
Когда мы делали первые ранние проекты Р.Э.П.а, мы все время переодевались. Для меня одежда – это особенная тема. Мои индивидуальные перформансы часто связаны с переодеванием. Это и платье-скатерть, и когда мы с Наконечной и Кадыровой одинаково оделись на вручение премии Малевича. Я люблю переодеваться и вне искусства. Меня недавно пригласили на коктейльную вечеринку и дресс-код был «summer». Я нашла черный бюстгальтер с твердыми чашками огромных размеров. Получилась такая майка, которая создавала иллюзию большой груди и напоминала одежду супергероев. Только в метро было страшно ехать в этом костюме.
Чтобы привлечь широкого зрителя к искусству, необходимо обучать и воспитывать с очень раннего возраста. Тогда в зрелом люди не будут задаваться вопросом: «В чем прикол акулы Демиана Херста?»
Я всегда различала творчество и искусство. Художник как профессионал производит отбор — на уровне решений, тем. Когда ты что-то представляешь, показываешь, предъявляешь. Либо ты сумасшедший графоман, либо показываешь последовательную работу. Художники сильны этой последовательностью. И еще художники могут принять решение работать независимо от экономических факторов. У меня в семье все художники-авантюристы. У меня никогда не было стабильной работы – и я не представляю, что меня ждет в будущем. И мне это нравится.
Как я пришла к той теме, над которой я работаю сейчас? Началом этому послужила работа над синтезированным пейзажем, когда я расписывала стену в больнице. Когда я начала работать над синтезированным изображением, я просто в фотошопе склеивала разные фигуры. Лепила человека, как Франкенштейна, из фрагментов других людей. Никакой экзотичности в этом не было. Я хотела, чтобы они были почти нормальными. Потом я деконструировала фигуру. Я все время пытаюсь прийти к абстракции через какие-то окольные пути и один из таких – разлом фигуратива. В каком-то смысле я прохожу путь, который уже был пройден в 20 веке, но меня привлекает западная традиция продолжения знания, а не конкуренции. Это выработка общего знания. Поэтому у нас в Р.Э.П.е никогда не было конкуренции, хотя очень часто пересекались темы. Совпадали какие-то работы. Но мы от этого получали огромное удовольствие, потому что все шло в одну копилку.
Изображение тела в моих работах развивалось таким образом: сначала были гиганты, потом формат фигур остался, уменьшился холст, фигуры стали зажатыми, потом у них начали отваливаться конечности, а сейчас они вообще сползают с холста. И мне до сих пор интересна идея синтетического тела, как бы искусственного искусства. И эта тоска по невозможности стать частью среды. Потому что природа – это среда. Когда все без иерархии сосуществует вместе, это дает такой широкий угол обзора.
Я все время замечаю: пока я что-то обдумываю, реальность меняется. Контекст меняется. Поэтому и создавать работы на острые сиюминутные темы — опасно
Считалось, что художник должен осознать свою идентичность и с ней работать, но я считаю, что художник при этом не должен обладать настоящей идентичностью. Понимать, что идентичность – это такой материал, как тот же холст или фотоаппарат. Для художника самое важное – это дистанция. Это и сила, и проклятие. Без этой дистанции он не может ничего прочувствовать по-настоящему, потому что он все видит художественно. Когда начался Майдан, я хотела от этого образного мышления куда-то деться, я все раскладывала, разбирала по полочкам. Или когда ты в Карпатах, ты пытаешься слиться с природой, но все равно сравниваешь все увиденное с какими-то работами художественными или фотографиями…
Почему я работаю над деконструкцией тела? Я интересовалась тем, что есть неделимая среда и культурная иерархия, которая все распределяет в каком-то порядке. Я это сравнивала. В какой-то момент меня очень заинтересовало пространство галереи как то, что скорее бы относилось к среде. Т.е. картина — это такая обособленная вещь, а галерея – это среда и картина должна в ней раствориться, поддаться ей. Выставочное пространство имеет свой характер. Меня всегда удивляло, почему художники в галерее «Карась» работают только с гипсокартонными стенами, игнорируя элементы старинной архитектуры. В 2013 году я сделала там камерную выставку – всего несколько работ и графика, но они так завязали пространство, потому что сама галерея тоже была экспонатом. Я со светом поработала, растопила камин, сделала его более привлекательным, чем картины. Вернувшись к этой теме, я продолжала работу в виде эскизов и записей идей, но я увидела, что контекст-то поменялся. Я все время это замечаю, пока я что-то обдумываю, реальность меняется. Контекст меняется. Поэтому и создавать работы на острые сиюминутные темы опасно.
Когда я рисовала портреты на Майдане — это было о том, что эти портреты попадут в систему искусства, но в виде копий. А оригиналы я отдаю людям. Копия приобретает статус оригинала и самое интересное, что часто потом, когда я работу показывала, многим профессиональным зрителям были интересны истории людей, а не сами работы. Основная проблема для художника в ситуации Майдана или войны в том, то художнику и не нужно о чем-либо говорить. Он может быть просто свидетелем. Публицистика вытесняет рефлексию. Мне хочется откликнуться на эту слабость языка в обстоятельствах, когда язык вообще не работает. Когда задействованы кулак, оружие, ракеты, — язык уже не работает. Он и на Майдане не работал. Там необходимо было сосуществование без слов, не говоря уже о каком-то жесте.
Выставка, которую я делаю в Клоузере, очень во многом о редукции. Само название получилось случайно, интуитивно. СТУП – это фрагмент слова отступление, поступление. Оно сразу стало самодостаточным звуком и открыло какой-то мыслительный путь. Мне нравится работать с пространством. Я хочу показать, что картина – не только объект, а инсталляция, часть среды. В мире много художников, делающих колористические инсталляции, называя это живописью. Но у них формализм ушел так далеко, что не нужно расшифровывать весь этот путь. Конечно, они не просто так до этого дошли. За этим стоит огромная традиция выхода за рамки классической формы. У нас с этим все намного проще. Мы этот путь не прошли. На Западе же вышли за рамки логических историй в живописи, но при этом классическая живопись существует и созвучна времени, актуальна, востребована. Но часто эта живопись даже не рефлексирует то, что она живопись. Поэтому мне интересно, почему до сих пор существуют подрамники, краски и все эти вещи. Поэтому я все еще остаюсь в пределах картины.
Я очень люблю перформанс, хотя и редко им занимаюсь. Я от этого такую же отдачу как от живописи получаю. Огромную. С видео у меня всегда ощущение, что все может пойти не так. Но я люблю монтаж. Пусть я никогда этому не училась и то, что я лично делала – сырое, но это то, чем мне интересно заниматься. Еще я обожаю чертить инсталляции, участвовать в производственном процессе с участием большого количества человек. Наверно, компенсация за то, что я не стала сценографом после академии.
Мне в последнее время нравятся помещать картины в очень некомфортные условия, чтобы они боролись за внимание, за выживание. Я, конечно, не говорю о повышенной влажности. В любой галерее есть какие-то элементы коммуникаций и если я, как художник, все время тренирую себя на внимание, я не могу их не учитывать. Еще до Академии я занималась в авангардной театральной студии Анатолия Черкова и там мы работали на таких нюансах, что я теперь в театр совсем не могу ходить. Мне просто плохо становится. Когда настраиваешься на улавливание нюансов, потом какие-то вещи просто режут глаз.
Публицистика вытесняет рефлексию. Мне хочется откликнуться на эту слабость языка в обстоятельствах, когда язык вообще не работает. Когда задействованы кулак, оружие, ракеты, — язык уже не работает
Я пришла к выводу, что идея галереи как белого куба должна переосмысляться. Потому что нет белых кубов. Белый куб – это негерметичное огромное пространство, отличное от социума. Считалось, что автономия искусства выражается в белом кубе. Это такая лаборатория, в которой можно все. Белый куб порождает дистанцию. Хороший пример – это выставки WorldPressPhoto с фуршетом на открытии. Эта дистанция есть в голове. Она не зависит от белого куба. Куб как галерея – это часть общественной жизни, часть публичного пространства. К тому же в кубе всегда есть дополнительные архитектурные элементы. Плюс есть значение места, его расположение. Многие художники с этим работают.
Дистанция усиливается информационной атакой. Кроме того, что надо обрабатывать огромный пласт информации, чтобы разобраться что происходит, мы даже не знаем какими технологиями информационных манипуляций на нас пытаются воздействовать. Возможно, обработка информации для нас никогда не будет прежней. Я не говорю о тех, кто непосредственно пережил опыт войны. Они понимают, что есть вещи, которые невозможно как-то описать. Что бы ты потом ни сказал, объяснить это невозможно. Я это сама чувствую, хотя кроме Майдана не видела ничего, но опыт невозможно передать, поскольку он попадает в определенные смысловые ниши и там вырабатывается дистанция. Ведь фейсбук нас приучил к тому, что весь личный опыт можно репрезентовать и мы получаем отдачу от репрезентации личного опыта. Мы себе создаем имидж. В то же время опыт войны показывает обратное – что мы не можем презентовать этот личный опыт. Потому что как он воспринимается в мире – это не то, чего мы хотим. Есть уже готовые формы репрезентации определенных вещей. Майдан для меня был новый опыт, который мною не был нигде прочитан до этого. Пока у тебя нет инструмента, чтобы что-то описать, оно как бы и не существует. Такая ловушка человеческого сознания. А природа говорит, что все и так уже существует, просто еще не все людьми описано.
Мне нравится жить как ветер в поле, чтобы не было никаких гарантий
Художнику, чтобы сделать карьеру, приходится предпринимать определенные шаги. Предполагается, что художник должен быть менеджером. У меня была хорошая менеджерская школа. Я понимаю, что логично было бы фигачить в сторону менеджмента, но мне нравится пускать все своим ходом. Нравится жить как ветер в поле, чтобы не было никаких гарантий.
Когда я победила в конкурсе на полугодичную резиденцию в Цюрихе, она должна была начаться через год. И целый год я точно знала, что будет через год. И я за это время забеременела. Как раз складывалось так, что роды попадали на резиденцию. И мне пришлось отказаться от нее. С тех пор я избегаю каких-либо планов. Мне так нравится: не планировать.
Мы все знаем, что культура в Украине существует скорее вопреки министерству культуры и чинить надо все. Но я бы начала с реформы в образовании.
После активизации Украины на мировой геополитической сцене, украинским художникам выделили небольшой процент внимания на крупнейших мировых художественных форумах. На личном опыте я заметила, что художник интересен, как свидетель событий или даже живой экспонат не в меньшей мере, чем автор своих работ.
Глобальными мечтами не увлекаюсь, последнее время радуюсь тому что есть. Городские власти не должны поднимать художникам цены на мастерские, а в самих мастерских должно быть тепло, сейчас я работаю в трех свитерах. Очень надеюсь, что у меня не будет «основного проекта в жизни», а я буду развиваться по нарастающей.
Чтобы привлечь широкого зрителя к искусству, необходимо обучать и воспитывать с очень раннего возраста. Тогда в зрелом люди не будут задаваться вопросом: «В чем прикол акулы Демиана Херста?»