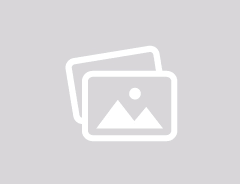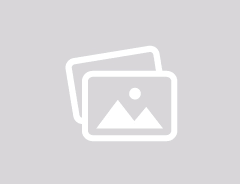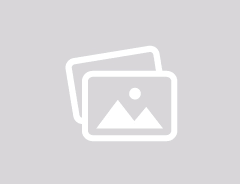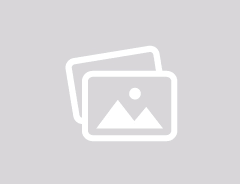Лев Маркиз: Мы с Параджановым – соседи
 Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
— У вас включен диктофон? – спросил Лев Иосифович. – Я помню, как когда-то, когда я только выехал из СССР, мне позвонила замечательный поет Наталия Горбаневская – та самая, которая в 1968 году была одной из шести участников демонстрации против ввода советских войск в Прагу. После отъезда из Союза она жила в Париже и работала там в газете «Русская мысль». И вот, узнав, что я тоже эмигрировал, позвонила и предложила сделать интервью, ради которого даже приехала ко мне домой, в Амстердам. Наталия вынула магнитофончик, включила его, а я, свежий эмигрант с морем эмоций открыл рот и не закрывал два с половиной часа. Наконец, когда мы перевели дух, она с совершенно счастливой улыбкой сказала, что всё замечательно и выключила магнитофон. Тогда я попросил послушать, что получилось. Наталия включила запись – и там не было ничего, она перепутала кнопки. Тут случилась одна из самых трагических ситуаций в моей жизни, потому что повторить это снова оказалось невыносимо!
Подтверждаю, что диктофон работает, указывая на красную лампочку. Лев Иосифович парирует, что это может служить доказательством только в том случае, если мы оба уверены, что не являемся дальтониками.
— Вы никогда не встречались с дальтониками? Я вдруг вспомнил, как в 1946 году в Никитском ботаническом в Крыму попал в специальный научно-исследовательский институт. И глава лаборатории по плодовым культурам, старый дореволюционный профессор с фамилией, между прочим, Рихтер повёл меня показывать опытную клубнику. У них выросла роскошная большая клубника, и он хотел угостить самой лучшей, выбирая самую спелую, самую большую. Но иногда самой большой оказывалась зелёная клубника, он был дальтоником.
— Но ведь по ощущению, по мягкости плода можно было понять, спелая клубника или нет?
— Вы знаете, ощущения в жизни очень часто обманывают. А вот случаю можно доверять. К примеру, как подобную сцену интерпретировать? Зимним воскресным вечером какого-то года после концерта в московском Доме учёных, в котором мы играли, в частности Трио Чайковского, друзья пригласили всех домой поужинать. Есть в Москве Комсомольский проспект, идущий к Москва-реке от Парка культуры и отдыха. И выхожу я на него после ночных бесед где-то в полчетвёртого утра – проспект абсолютно пустой, широченный… бесснежный мороз, ветер гоняет пыль, такси нет в помине, и я укрываюсь в стекляшке – остановке автобуса или троллейбуса. Машин нет, я ёжусь, в одной руке – скрипка, другой лезу в карман за сигаретой – и это последняя сигарета в пачке. Я её смял, вижу урну в углу и думаю туда бросить, подхожу и замечаю, что из урны торчит свёрток бумаги. Спрашивается, какая вероятность того, что полупьяный скрипач, только что игравший Трио Чайковского в Доме учёных, полезет в урну и будет оттуда вытаскивать торчащую бумагу? Я не понимаю, почему, но полез туда. Вы мне не поверите сейчас, но то, что я развернул и начал рассматривать при тусклом свете, оказалось скрипичной партией Трио Чайковского с рукописной надписью сверху «А. Рубинштейн». А само Трио, как известно, посвящено Николаю Рубинштейну. Эта партия у меня была долгое время, до иммиграции, а потом исчезла.
 Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
 Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
— На всех дирижёрских партитурах, которые вы привезли во Львов, нарисованы кролики. Откуда взялся этот фетиш?
— Когда я познакомился со своей будущей женой Клер в 1982 году, она носила старенькую шубку из кроличьего меха. И после этого я начал называть её кроликом, оттуда все и пошло. У меня даже был один специальный кролик, который всюду со мной ездил. Если он вдруг исчезал – катастрофа. Несколько лет я был шефом швейцарского оркестра в Женеве, и там всегда жил в одной и той же гостинице, в одной и той же комнате. И когда я уходил на репетицию, кролик всегда сидел на подушке, а обслуживающий персонал, убирая, каждый раз пересаживал кролика на тумбочку или шкаф. Однажды я объяснил, что к моему кролику нужно относиться с уважением, и после этого кролик всегда ждал меня на подушке, а рядом с ним лежала конфетка. И вот однажды я приехал, забыв взять кролика с собой. Прихожу с репетиции – и сталкиваюсь в коридоре с одной из горничных, которых уже знал в лицо. Она смотрит на меня испуганными глазами и говорит: а что с кроликом?!
С тех пор у меня собралась целая коллекция, очередного после львовского концерта подарил Сергей Проскурня, который был у меня в голландском доме и знает о традиции. Как-то мне подарили печати с разными кроликами, и я принялся ставить их на ноты как экслибрис. И когда предстояло играть какое-то сложное произведение, то первое, что я делал – лепил кролика в конец партитуры.
— Как в таком случае быть с арендованными нотами?
— А здесь мы уже вступаем в область криминала. Я много исполнил партитур современных российских композиторов, а очень многие печатаются в издательстве Сикорского в Гамбурге. Они на мне хорошо зарабатывали за счет аренды нот, и поскольку у меня с ними были давние и тесные отношения, на то, что я иногда возвращал оркестровку без партитуры, там закрывали глаза. Я это делал не из меркантильных интересов, просто потому что, когда долго имеешь дело с партитурой, делаешь там пометки, она становится «твоей».
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
— Вы переиграли, в том числе, массу партитур Альфреда Шнитке…
— Кстати, мы вместе с украинским скрипачом Олегом Крысой лет двадцать назад записали большое сочинение Шнитке для симфонического оркестра с сольной скрипкой и виолончелью.
— Когда вы познакомились с Альфредом?
— Еще в консерватории. Я в качестве скрипача исполнял его студенческие сочинения.
— Нашему поколению уже сложно понять, насколько сложно было исполнять такого рода музыку в Советском союзе…
— Вы знаете, все так называемые «шестидесятники» так или иначе звучали. Официальных запретов не было, просто некоторые вещи исполнялись в небольших залах или «прятались» в другие программы. Чем ярче и необычнее была личность, тем больше ее душили коллеги по цеху, занимающие должности в Союзе композиторов – из чисто животного чувства страха конкуренции. В свое время была знаковая премьера сочинения Андрея Волконского «Сюита зеркал». Ее внесли в абонемент концерта, где в первом отделении исполнялись всякие комсомольские произведения Мурада Кажлаева, а после паузы была фортепианная пьеса Волконского Musica stricta, которую играла Мария Юдина, и «Сюита зеркал». Для всех людей музыкального круга, которые понимали происходящее, это было революцией, и на концерте зал был набит битком. Но во время первого отделения многие сидели на лестницах Малого зала и курили, болтали, ждали, пока закончится произведение Мурада Кажлаева, а во втором отделении был аншлаг.
Мы довольно долго репетировали «Сюиту зеркал», и в последние дни перед концертом были ночные репетиции в Малом зале. Я играл на скрипке и руководил процессом, и вдруг в темном зале увидел сзади у дверей две-три фигуры. Кто-то шепнул, что это люди из министерства. А произведение начиналось следующим образом- органный аккорд, удар литавр, и певица кричит во весь голос текст Гарсиа Лорки «Христос! Держит зеркало в каждой руке». Когда стало ясно, что в зале – люди из министерства, я начал репетировать не с начала, а со второй части, которая длилась около полутора минут, и там невозможно было ничего понять.
Второе отделение концерта началось на двадцать минут позже, потому что «сверху» поступил сигнал, и все микрофоны, которые до этого были на сцене, убрали. Поэтому и записи не осталось.
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
— Знакомы ли вы с украинскими шестидесятниками?
— Да, с Блажковым, Сильвестровым, Параджановым… Такие люди как Параджанов, Волконский – гениально одаренные, но в жизни –настоящие хулиганы. Моя последняя встреча с Параджановым состоялась где-то в 1970-1971 году. Мы тогда приехали с концертом в Киев играть Королевские концерты Рамо – Волконский на клавесине, Наталия Гутман на виолончели, а я – на скрипке. Хорошо помню, как после концерта в артистическую вошла целая толпа людей, и окруженный поклонниками Параджанов тут же разыграл «пантомиму» с Андреем и со мной, из которой следовало, что все мы больше, чем друзья. Окружающие это принимали всерьез и делали крупные глаза, а мы веселились – найти двух мужчин, более далеких от «голубого» фронта, чем мы с Андреем, было трудно. Помню, как-то сидел в ресторане и обедал с дочкой композитора Вайнберга Викторией, и за соседним столиком какая-то компания поглядывала на нас и оживленно шушукалась. Виктоша была с ними знакома и поведала, что они убеждены в моей нетрадиционной ориентации. Через неделю у нас с Андреем должен был быть концерт в консерватории, и я шепнул ей: «Скажи, пусть они на концерт приходят». Я это рассказал Андрею, и мы с ним после сонат Баха устроили замечательную сценку – кланяясь под аплодисменты, то я его приобнимал немного пониже обычного, то он меня, и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Представляете, как публика взволновалась…
Когда Андрею доводилось получить гонорар за киномузыку, он был богатым человеком в течение недели примерно, и мы роскошно обедали. А после этого ехали к нему домой, очень любили слушать музыку по ночам.
— На чем музыку слушали?
— На пластинках. У него была уникальная коллекция, их присылали из Франции, из Швейцарии его друзья. Более того, может, только у пары человек в каких-то высоких кругах была подобная аппаратура – абсолютно революционная для того времени.
Однажды, вернувшись из ресторана, заходим в лифт, а перед нами – пожилая дама, жена композитора-песенника с восьмого этажа. Она уже сторонится, потому что Андрей – скандальная в Москве фигура, но лифт-то тесный, и мы с Андреем начинаем друг к другу прислоняться. Что с бедной женщиной творилось! Она просто вжалась в угол лифта, а когда мы выходили на пятом этаже, то, кажется, крестилась.
Когда вокруг раздаются голоса – какой кошмар, ужасная страна, этот режим – все так. Миллионы людей потеряли жизни, но сама-то жизнь продолжалась. Мы жили в то время, когда за анекдот уже не расстреливали и на 10 лет не сажали. Могли дискриминировать, не пустить за границу, но риска для жизни не было. Поэтому некоторые вели себя абсолютно раскованно, сознательно рискуя тем, что их передвижение может быть ограничено.
— Но Параджанов-то как раз пострадал в этой ситуации.
— Параджанов – гениальный режиссер, замечательный человек, но он занимался сознательным эпатажем, это была его жизнь. Кстати, у меня есть домик в Тбилиси совсем недалеко от того места, где он жил. Так что мы, можно сказать, соседи.
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
— Каким ветром вас занесло в Тбилиси?
— Я там много бывал и дирижировал разными оркестрами. А в 1977 году ко мне обратился их министр культуры, так как консерваторский оркестр должен был ехать на международный конкурс в Западном Берлине, организованный Караяном. Оставалось 3-4 месяца до конкурса, а с подготовкой была полная катастрофа. Я согласился помочь, выставив ряд условий. Во-первых, на время репетиций студенты от всего освобождаются и проводят со мной время с утра до позднего вечера. Второе – все инструменты необходимо привести в идеальный порядок, струны выписать из-за границы. И третье – нам нужно отдельное помещение, в котором мы будем хозяевами, а летом – лагерь, где будем заниматься. Абсолютно все, до последней детали было сделано, летом мы полтора месяца провели в Боржоми, в роскошном месте, а прекрасное здание музыкальной школы нам отдали целиком, и все ребята жили прямо в ней. Там же с утра до вечера я их и мурыжил. Не все выдерживали, бывали истерики и всякие тяжелые моменты, но потом все-таки привыкли. Окончилось это тем, что меня не пустили в Западный Берлин (дирижировал их грузинский руководитель), но ребята оказались настолько подготовленными, что были вне всякой конкуренции. Рядом с ними были и более известные оркестры, но на Западе никто не будет устраивать тюремный режим подготовки, а моих подопечных можно было среди ночи разбудить, и они с закрытыми глазами все бы сыграли. Как результат – оркестр получил золотую медаль.
— Вы рассказали о том, как дрессировали здесь музыкантов. От многих своих знакомых, уехавших в Западную Европу, я слышу о другой системе – когда оплачиваются, к примеру, три репетиции и концерт, и, если стоит даже острая необходимость в четвертой – на нее никто не придет, так как она не финансируется. После того, как в 1981 году вы уехали на Запад, сложно ли было подстраиваться под другую систему?
— Разумеется, профессиональный труд должен быть оплачен. Но это полная ерунда, что нет людей, готовых работать за идею. Вот вам конкретный пример – мой бывший амстердамский оркестр. Первые годы в Голландии я был вынужден по чисто официальным причинам принять предложение стать профессором консерватории по классу скрипки, хоть я терпеть не могу преподавать. Я готов с утра до вечера репетировать с оркестром, но сидеть и слушать, как кто-то ковыряет концерт Вьетана, не могу, хоть стреляйся. Конечно, во время работы в консерватории я заметил нескольких ребят, которые чего-то стоили, но через пять лет я оттуда с облегчением ушел. И вот через какое-то время один из выпускников мне позвонил и напросился в гости. Их пришло трое или четверо, и они сообщили, что хотят попробовать с нуля создать в Голландии новый оркестр, который менталитетом немного отличался бы от других. В течение полугода мы не просто не зарабатывали, а еще и платили собственные деньги за помещение, за ноты, совершенно не будучи уверенными в результате. Но когда состоялись первые концерты оркестра, один из главных голландских критиков, человек желчный и редко позитивно отзывающийся, закончил свою статью о нашем концерте следующим образом: «Если бы меня кто-то спросил, нужен ли Голландии еще один оркестр, то я бы ответил категорическое нет, но после сегодняшнего концерта я скорее скажу «да». В этом оркестре не было ни одного русского, только западные ребята. С другой стороны, наше полугодовое общение привело к тому, что они от меня переняли некоторое фанатичное и фаталистское отношение к жизни. Занимаясь этим оркестром, я постоянно отказывался от более выгодных предложений, но позитивные моменты эти жертвы оправдывали.
Лев Маркіз (Репетиції) Фото Адріани Довгої
— Что происходит, когда разные исполнительские школы накладываются друг на друга?
— Понятие школы сейчас размыто. Студенты из одних стран учатся в других странах и даже на других континентах, постоянно ездят на мастер-классы, и уже нельзя сказать, к какой традиции они принадлежат.
— Вы в течение 10 дней работали со львовскими ребятами. Это больше чем репетиции, настоящие мастер-классы. Что удалось изменить за это время?
— Главный момент даже не связан с игрой, потому как для того, чтобы научить по-настоящему играть в оркестре, нужны годы такой непрерывной работы, как та, которая проводилась в течение этих 10 дней. Главное – это пробудить в музыкантах ощущение музыки, реакцию на нее, понимание. Это воспитание чувств, в конце концов.
Был у вас в Украине когда-то гениальный дирижер Натан Рахлин, с такими потрясающими руками, каких я больше никогда не встречал. В нем сочеталось несочетаемое, какие-то ужасающие, примитивные даже влечения с невероятной одаренностью. Одним из коронных его сочинений была Фантастическая симфония Берлиоза. В ней есть чрезвычайно важное вступление в первой части, которое с точки зрения дирижирования является большой технической проблемой. Каждый дирижер ее решает для себя – можно дирижировать на 4, можно на 8, можно на 16 и т.п. И вот Рахлина так увлекало это вступление, что он мог ему посвятить всю репетицию. И когда она заканчивалась, он умолял оркестр: «Ну подарите мне хотя бы 20 минут дополнительного времени. Мы не будем играть, я вам просто расскажу, что нужно делать в других частях». Вот такие странные вещи бывают с деталями.
Я, например, очень люблю работать с солистами, хотя некоторые превосходные дирижеры это ненавидят. И бывает, что солист приезжает вечером накануне, тогда единственная репетиция – в день концерта. Если это хорошо знакомая оркестру вещь вроде концерта Моцарта, оркестр может сыграть ее сходу, и вся репетиция нужна просто для того, чтобы проиграть концерт от начала до конца, послушать друг друга, привыкнуть. Концерт Моцарта длиной в 26 минут в таком случае репетируют минут 28, и все. И вот бывали у меня такие случаи, когда репетиции превращались почти в катастрофу. Я обожаю поздние фортепианные концерты Моцарта, в которых оркестровое вступление длится секунд 40. Но прогон программы для меня в таком случае – это как 40 секунд провести с любимой женщиной, я не могу ее так быстро отпустить. Начинаю репетировать, с ужасом вижу, как время уходит, пианист еще ни одной ноты не сыграл, а я не могу оторваться от вступления. Не могу смириться, скажем, с тем, что виолончели и контрабасы взяли в 17-м такте вторую ноту в басу не так как мне это необходимо.
Ужасная история, честно говоря…
Однажды я работал с очень хорошим оркестром радио в одном немецком городе. В симфонии было соло кларнета, сидел отличный кларнетист и играл все хорошо, но я попросил что-то сделать иначе. Он попробовал, не совсем получилось, но я прошел мимо. На следующей репетиции ситуация повторилась, и я снова попросил о том же. На третьей репетиции сидел другой кларнетист. Когда я спросил у директора, в чем дело, он ответил, что руководство очень ревностно относится к чести своего оркестра, и, если музыкант дважды не выполняет требований дирижера, его нужно отстранить от программы. Оркестры высокого уровня функционируют как здоровый организм, который сам заботится о себе – какие-то вещи отторгает, что-то вбирает – а не бежит каждый раз к врачу.
— Можно ли говорить о музыке как об универсальном языке или это миф?
— Музыка – это, возможно, самое высокое и абстрактное искусство. Когда вы читаете поэзию в переводе, многое теряется, а здесь все сохранено. Подставлять слова в музыку – пустое дело, и в программность вроде «Шехеразады» я не очень верю. Музыка тем и ценна, что способна рассказывать об очень важных, главных вещах, не прибегая к конкретизации и объяснениям.
Інші публікації
Популярное
В тренде