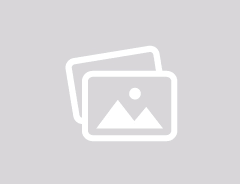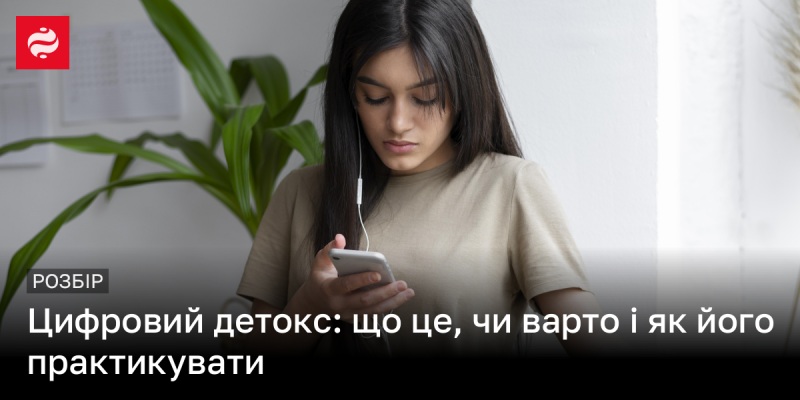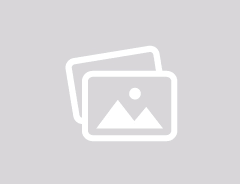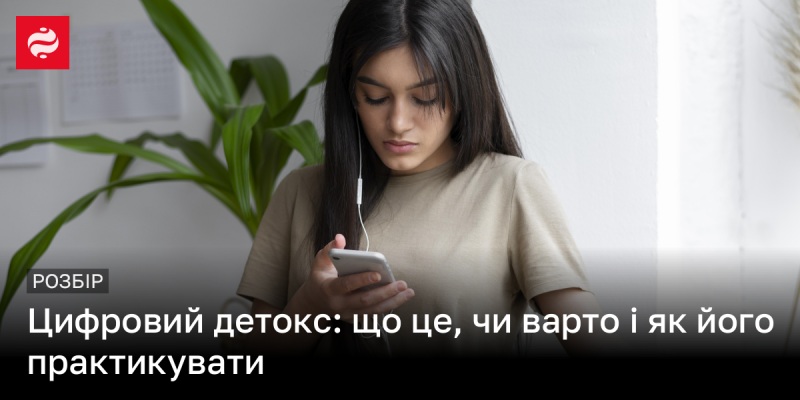Юрий Лейдерман: «После Майдана я обрел измерение искренности, другое понимание художественного поступка»
Юрий Лейдерман — один из главных художников одесской концептуальной группы, лауреат поэтической премии Андрея Белого и автор многочисленных статей об искусстве. Последние годы Юрий живет в Берлине, но после событий на Майдане стал активным участником многих проектов в Украине (выставка «На межі» и «Провина» в PinchukArtCentre, на биенале «Київська школа», и две выставки в 32 Vozdvizhenka Arts House — Песня «Товарищ» и «Портреты и полосы»).
Мы поговорили с ним о концептуализме «московском» и «одесском», о живом дыхании Киева и о невозможности аполитичного искусства.
Почему концептуализм и как вы пришли в искусство?
Сережа Ануфриев открыл для меня мир современного искусства, и с этого момента приход к московскому концептуализму был неизбежен. Хотя я некоторое время сопротивлялся, мне была интересна живопись, что-то между экспрессионизмом и абстрактным экспрессионизмом.
Джексон Поллок казался мне последним пророком, а всё последующее − скорее шутками, анекдотом, весьма остроумным, но не более того.
И тем не менее, два автора изменили мое представление о концептуализме − Крис Берден и Андрей Монастырский (группа «Коллективные действия»). Я почувствовал, что это может быть не только игрой в иронию и дистанцию, но чем-то более сущностным − поиском свободы в новых эстетических зонах.
— Чем отличается одесский концептуализм от московского? Вы говорили, что одесское движение всегда равнялось на московское и хотело в него влиться…
Мы не ощущали другого центра, кроме Москвы. Об Украине мы тогда ничего не знали. Киев вообще для нас не существовал. Ну слышали краем уха, будто что-то происходит во Львове. Из других центров был еще Ленинград, но он слишком далеко. Прибалтика, конечно, но у них там свои прибалтийские дела. А с московским концептуализмом уже были связи через одесско-московского художника Володю Наумца. Он занимался знаковой живописью, основанной на русских иконах. На какой-то период увлекся концептуализмом, познакомился с московским концептуальным кругом. Чуть позже эти связи начал очень энергично поддерживать Сережа Ануфриев. Так что альтернативы нам не виделось, и мы считали себя последователями или филиалом этого круга.
Было чувство, что только в Москве ты можешь быть вписан в культурный контекст. В Москве сидят учителя, мэтры, оттуда идет источник информации: журналы − «А-Я», «Флэш Арт», самиздат.
Через Москву идет и поток в другую сторону: работы переправляются выставляться куда-то на Запад. Нас даже мало интересовало, куда конкретно они переправляются. Главное − что на Запад, в тот правильный и настоящий мир. Сейчас, слава богу, большая часть этих работ хранится в музее Циммерли в Нью-Джерси.
И только в последние годы я начал осознавать разницу между, так сказать, «одесским» и «московским» концептуализмом. Она связана с разными парадигмами восприятия. В Москве, да и вообще в России, все строится через центр. Достаточно посмотреть на карту московского метро. Или, скажем, на карту железных дорог России − все они идут через Москву. Московский концептуализм как бы опустошил этот центр. В альбомах Кабакова или в акциях «Коллективных Действий» действие происходит по краям. Но энергетика центра, пусть даже «пустого, все равно сохраняется. В Одессе или в Украине в целом — другой тип сознания, более горизонтальный, линеарный. Связи не обязательно идут через центр.
Конечно, Киев — столица, но Украина представляет собой, условно говоря, ряд культурных провинций, каждая со своей историей и своими традициями: Одесса, Львов, Киев, Харьков… И они как бы стоят плечом к плечу.
Та же Одесса − в отличие от Москвы, топографически она представляет собой не подобие среза дерева, но полосу, тянущуюся вдоль моря, вдоль извилистой линии побережья. По которой ты можешь идти почти сколь угодно долго. Это не драматургия комментариев, как у Кабакова, но, скорее, ситуация анекдота. У которого нет ни смысла, ни вывода, его рассказывают именно чтобы рассказывать. Нечто подобное можно видеть и в сериях Сережи Ануфриева, например. В отличие от работ Кабакова, это последовательность, которая просто длится ради себя самой.
Если раньше Москва была центром, то как сейчас?
Не знаю как сейчас в общем, но московский концептуальный круг, в котором я возрос, полностью потерял свою энергетику еще лет 10-15 назад. Он превратился в товарный лейбл.
Концептуализм действительно стал каким-то брендом. Вы чувствуете себя его частью?
Внутреннее я себя таковым не ощущаю. Это был для меня, скорее, период ученичества. Вообще московский концептуализм — это не столько художественная доктрина, сколько круг авторов, внутри которого существуют разные течения. Мне была интересна линия Кабакова − Монастырского. Андрея Монастырского я считаю своим учителем.
Вы начали часто приезжать в Киев в последние 2 года. До этого бывали редко. Какие видите изменения в культурном и арт пространстве?
Действительно последние полтора года я бываю в Киеве чуть ли не каждый месяц. Я чувствую в здешней ситуации живое дыхание. Да, у нас всё плохо: того нет, этого нет, нет художественной инфраструктуры, нет денег, нет нормальных журналов по искусству.
Но присутствует живое соприкосновение с историей, с историческим моментом, в котором мы все находимся, некое моральное вопрошание. Особенно это касается тех художников, с которыми я дружу и общаюсь − Никиты Кадана, Жени Белорусец и других. Ты не просто делаешь инсталляцию или рисуешь, чтобы создать какой-то арт-объект, но надеешься на изменение мира вокруг тебя. Еще для меня важно пытаться «сшить» украинское художественное пространство, особенно касательно моей родной Одессы − привезти Одессу в Киев, Одессу во Львов, и наоборот.
Теперь, когда я немного больше узнал об этом, мне очень интересно, например, сходство между тем, что происходило в Одессе в 70-80-ые годы и тем, что происходило во Львове. Хотя мы ничего не знали друг о друге, и у нас были разные ориентиры.
Но я вообще не люблю слова «культура» или «культурное пространство». Я не занимаюсь культурой, я занимаюсь искусством. Это разные вещи.
Как сказал американский художник Карл Андре: «Искусство — это то, что ты делаешь для других, культура — это то, что другие делают для тебя». Поэтому такого рода проекты, в которые я вовлекаюсь, я воспринимаю не как культурное строительство, но как часть моего собственного творчества, продолжение выяснения моих собственных отношений с миром. Скажем, книга Лени Войцехова, которую издал арт-центр 32 Vozdvizhenka Arts House под моей редактурой или мой фильм для Киевского биеннале, посвященный одесским художникам Валентину Хрущу и Олегу Петренко. Будем работать над выставкой Сережи Ануфриева в PinchukArtCentre. Хотелось бы издать книгу стихов недавно скончавшегося Игоря Чацкина, как раз незадолго до смерти он вышел на совершенно новый уровень. Надеюсь на свою собственную совместную выставку с Андреем Сагайдаковским.
Ну и так далее. Кроме того есть еще две самые заветные мечты, после которых, как говорится, можно умереть. Это большая ретроспективная выставка Валентина Хруща в Национальном Музее в Киеве, и маленькая, хоть какая-нибудь, выставка великого американского художника Филипа Гастона (чьи родители были из Одессы) − в Одессе.
Во многих интервью и в своих работах вы говорите о том, что вас изменил Майдан. Как и почему?
Ну, во-первых, я обрел свою страну и свою родину. Что, впрочем, произошло и для десяток, сотен тысяч людей. Раньше это было в каком-то летаргическом состоянии. Скажем, я себя считал, скорее, украинским художником, но и не особо возражал, если называли русским. Однако дело, конечно, не в самом слове «украинец», хотя это замечательное слово, и не в том, чей ты художник.
Просто я обрел измерение искренности, другое понимание художественного поступка. То, что, как я понял, мне не хватало 20 лет жизни в Москве. Там вся эстетика строилась на «художнике-персонаже» и бесконечном дистанцировании. Мои московские учителя всегда учили меня, что искусство — это искусство, а жизнь — это жизнь, и их ни в коем случае не надо смешивать.
Может ли человек искусства быть аполитичным, когда в его стране идет война?
Вопрос в том, что мы понимаем под словом «политика». Ведь это не партии в парламенте и тому подобное. «Политика» происходит от греческого «полис», город. Которое в свою очередь восходит к понятию «места» − вот этого конкретного пространства, в котором живут люди, объединенные этой землей, деревьями, языком, историей, судьбой, богами.
То есть «политика» есть взаимоотношение с открытостью пространства твоей жизни, и сообща с другими, живущими рядом. Так же, как и искусство. И в этом смысле искусство не может быть аполитичным.
Еще одна обсуждаемая тема сейчас — декоммунизация. Ведь над памятниками, мозаиками тоже работали художники, они выставлялись в музеях и галереях…
У меня здесь позиция жестче, чем у моих более левых и более молодых друзей. Ближе к официальной. Памятник Щорсу, для которого вроде бы позировал молодой Кравчук, забавен с исторической точки зрения. Но ему место не на улице, а в музее или в каком-то специальном парке скульптур. Как в общем-то сделано во всех нормальных постсоветских и не постсоветских странах. Как бы это грубо не звучало, но, по мне, лучше перегнуть, чем недогнуть. Я видел, как эти корешки не были вырваны в России в 1991 году, когда была такая возможность, и к чему это привело. Конечно, не стоит оправдывать любую глупость, коих множество. Но в конце концов есть вещи поважнее, чем памятники.
— Часто можно услышать о работах современного искусства: «Да мой 5-ти летний сын так рисует», «Разве это шедевр?» и т.д. Каким культурным бэкграундом нужно обладать, чтобы понимать концептуализм?
Концептуализм или не концептуализм, но это вопрос не культурного бэкграунда, а постоянной внутренней работы. Как раз осознание, что нет никакого заведомого понимания искусства. Есть только постоянное созерцание, всматривание, додумывание. Бытует мнение, что современное искусство гораздо сложнее для понимания, чем классическое. Мне кажется, что как раз наоборот. Меня очень забавляет, когда человек говорит: «я не понимаю современное искусство!». А что, Рембрандта или Веласкеса он «понимает»?
Сейчас вы вернулись к живописи. Почему?
Я уже говорил, что начинал с живописи. Только потом переключился на перформансы, инсталляции и тому подобное. На первых порах меня отчасти «упросил» Сережа Ануфриев: «Юрочка, пожалуйста делай перформансы, они у тебя хорошо получаются, а мы должны показать москвичам, что в нашей одесской группе присутствуют все направления». Так что я всегда мечтал вернуться к живописи.
Но самое главное для меня, что в современном искусстве исчез момент события, сингулярности. Оно превратилось в форму масс-медиа, обслуживающую реальность, наподобие журнализма. Говорящую о том, что мы и так уже знаем. А в живописи мне дорога именно событийность: я веду линию и тем самым происходит становление, я становлюсь кем-то другим и мир вокруг меня становится другим. Я не говорю, что это принципиально недостижимо в другими, более продвинутых медиа, и всем следует вернуться к живописи. Это мой личный путь.
Ваши работы выставлялись в разных странах. Не замечали ли вы, что в каждой стране существует особое восприятие ваших работ?
Да, конечно. Например, когда я занимался инсталляциями и запутанными проектами на стыке литературы и изобразительного искусства, они наиболее адекватно воспринимались во Франции. В каждом французе сидит такой маленький Жюль Верн или Дюшан. А немцам, скажем, в них недоставало связи с насущными проблемами.
Мало кто знает вас как поэта, хотя вы лауреат поэтической премии Андрея Белого. Почему?
Мои тексты очень маргинальны и плохо вписываются в сложившиеся конвенции, направления. Их вообще, наверное, стоит читать не сплошняком, последовательно, но раскрыв книгу наугад: абзац здесь, абзац там. Люди к такому не привыкли, потому что непонятно тогда, про что же книжка и что из нее можно почерпнуть. И уж тем более эти тексты не имеют никакого отношения к так называемому «концептуализму», к которому меня причисляют как художника. И тут тоже возникает недоумение. Хотя надо сказать, что в Петербурге в свое время они встретили гораздо большую поддержку, чем в Москве. И если в Москве я был «художником-концептуалистом», то, приезжая в Питер, воспринимался как писатель, причем совсем другого плана.
В одно время вы хотели заняться «безымянными формами искусства». Насколько у вас получилось это?
Пока мы живы, мы не можем судить, «получилось» или «не получилось». Ну а потом нас все равно запишут в какое-то направление… Я когда-то участвовал в семинаре, который вел замечательный московский философ Валерий Подорога. Помню, в ответ на какое-то его предложение: «А вот почему бы вам художникам не заняться тем-то и тем-то…», мы все закричали: «Это невозможно! Это уже было…». «Что значит «было»?!» − спросил Подорога. − «Вот я сейчас, например, хочу написать книгу о Батае. Мне все говорят: это глупо, о Батае уже написаны сотни книг. Да, но я ведь не виноват, что я только сейчас увлекся Батаем. И пока я жив и работаю, у меня остается шанс сказать о нем все-таки что-то новое. Ну а после того, как я умру, мне уже будет безразлично, удалось или нет мне сказать что-то новое о Батае».
Какие ваши любимые художники?
Я тоже иногда задаю себе этот вопрос, но не могу на него ответить. В голове сразу всплывает множество имен, школ, традиций. Ведь это вся моя жизнь. Но вот что меня очень «держит» последние несколько лет, с чем я постоянно внутренне «работаю» − это японская живопись 18 века, особенно так называемые «эксцентрики» − Сога Шохаку, Ито Якучу, Нагасава Росецу, уже в начале 20 века Како Цудзи. И с другой стороны − это американский абстрактный экспрессионизм. Они сходятся для меня в понимании достоинства жеста. Как сказал Роберт Мазервелл: «Живопись − это эстетический ответ на моральные вопросы».