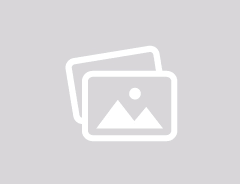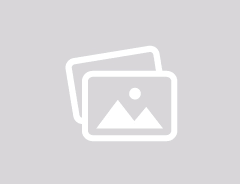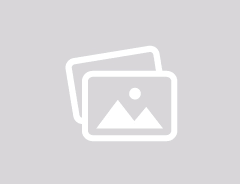Никита Кадан. Проекты памяти и колодец вины
Никита Кадан — украинский художник, член группы художников Р.Е.П. и кураторского объединения Худрада. В сентябре прошлого года в галерее Arsenal в польском Белостоке состоялась его выставка «Кости перемешались». Темой экспозиции была политика памяти, основой для создания работ послужили фотографии Волынской трагедии и Львовского погрома. «Повторение забывания», еще одна выставка, посвященная политике памяти, открылась в арт-центре «Я Галерея».
В 2016 Никита Кадан стал лауреатом премии Малевича.
ArtMisto поговорило с Никитой о политике памяти, исторических мифах и о тенденциях в современном искусстве.
— Почему для работы вы выбрали документы и свидетельства именно Волынской трагедии и Львовского погрома?
Это поиск болевых точек исторического рассказа привел к ним.
Начиная с инсталляции “Постамент. Практика вытеснения” (2011), я в разных формах занимался темой политики памяти. Моя работа выстраивалась вокруг таких категорий, как «музей», «архив», «монумент». Так что сейчас, в серии «Хроника», я продолжаю начатое относительно давно.
Я вижу очередную идеологизацию общественной жизни, не только украинской. Идеологизация эта имеет ясный правоконсервативный характер. Борьба “проектов памяти” придает силы и польским, и украинским правым, и Волынь тут — ключевая тема.
Есть российская пропаганда, использующая исторические материалы той же Волыни. Из идеологизированного взгляда на историю растут манипуляции архивами, изображениями, фотодокументами. Есть множество архивных изображений, которые используются как оружие для каких-то актуальных полемик.
И в польских и украинских источниках циркулируют одни и те же картинки, но с разными подписями.
— Поэтому и “Кости перемешались”?
Да, жертвы с жертвами в этих подписях меняются местами. В то же время в реальных расстрельных ямах не соблюдается национальная однородность.
Работа над выставкой для меня началось с истории о специальных комиссиях, которые прибывали на места массового захоронения в надежде отделить останки соотечественников от прочих и забрать для погребения на родине. Но это зачастую оказывается невозможным, все перемешано безвозвратно.
Перемешаны и свидетельства, и документы, и изображения. За традицией подмен идет традиция разоблачений. В каждой из этих традиций появляются профессионалы.
Был в Киеве круглый стол “История на фронте информационной войны”. Его организовывал Институт национальной памяти. Название этого круглого стола — это ясное определение задач для исторической науки, в котором, собственно, для научности не остается места.
— «Смотреть на историю прямо, не сквозь призму исторического мифотворчества» — ваш комментарий к выставке. Возможна ли вообще история без мифов, если говорят, что историю пишут победители?
История — это запись и рассказ. “Прошлое” и “история” — не синонимы. Есть возможность других историй, отличных от “истории победителей”.
Упомянутый круглый стол был о том, что обществу “нужна национальная мифология”. И сразу же речь шла о том, что нужно противостоять мифам вражеским. Мы, мол, обречены на мифотворчество, ведь враг начал первым и все решено за нас.
Я пытаюсь практиковать прямой взгляд. В результате часто приходится констатировать собственную неуверенность.
Один из ключевых образов выставки — человек, у которого спина истыкана штыками. В украинском диаспорном источнике 1946 года, брошюре М. Лебедя, эта фотография была подписана “Український селянин Б. Івахів, закатований польсько-більшовицькою бандою”. Потом, в начале нулевых, появилась книга польского пропагандиста Александра Кормана, где эта же фотография была подписана как “Поляк Кароль Імах, закатований УПА”. Корман взял фотографию именно из украинской брошюры и просто заменил подпись. Но значит ли это, что «оспорить Кормана» — равно «довериться Лебедю»? А образ этой исколотой спины между тем остается очень реальным.
Появляется вопрос: а можно ли прекратить историю использования изображений этих трупов, эту машину для производства новых трупов? Возможно ли остановить этот конвейер? Это то, что я пытаюсь сделать — извлечь образ из этой циркуляции. Совершаю элементарный акт саботажа на производстве идеологически верных образов.
Одно из таких архивных изображений, документальный кадр Львовского погрома 1941 года, я разделил на три части. На первой — раздетая женщина, которую гонят по улице; на второй — погромщик, он замахивается палкой; на третьей — человек, который несет в руках ботинки.
По отдельности они начинают выглядеть чем-то другим. Погромщик напоминает революционера, женщина идет очень уверенно и не похожа на жертву, в человеке с ботинками видна заботливость. Возникает какая-то возможность альтернативного чтения изображения, а это чтение заставляет самостоятельно выстраивать отношения с невыносимым смыслом происходящего. С картинки словно снимается защитный слой.
Была там другая работа: флаг из листа железа, части кузова машины ГАЗ, которую обстреляли в районе Лисичанска в Луганской области. Кузов был изорван шрапнелью, из него я сделал металлическое знамя.
Материал-свидетель, история, записанная на материале.
Первые рисунки такого типа, как в серии «Хроника», я делал именно на основе фотографий жертв насилия во время Майдана и во время начала военных действий. Был цикл “Проблема прямого взгляда”: рисунки на основе фото, которые используются как оружие информационной войны, но фигуры с этих фото будто подвешиваются в пустоте, лишаются контекста.
Легко опустить руки, отказаться копаться в “исторических правдах”, признать манипуляции и подмены тотальными и всепроникающими. А отстаивая одну из этих “правд”, ты должен будешь от всегда неполного знания переходить к вере, такой, которая сильнее любых аргументов.
Но попробуйте выработать взгляд, в котором нет ни веры, ни равнодушного нейтралитета, ни циничной умелости, нужной “на фронте информационной войны”. Взгляд, который можно было назвать “страстно-скептическим”, и который бы основывался на перманентном суде над самим собой. Я в своих картинках пытаюсь добиться чего-то в этом роде.
— “Повторение забывания”. Так что же, по-вашему, нужно помнить и что забыть?
Забывать обществу в принципе не надо. У него заканчивается объем памяти? Что-то надо удалить?
Выставка “Повторение забывания” была о способности сегодняшнего дня забывать уже забытое и ломать уже сломанное. Представьте повторный расстрел Расстрелянного Возрождения. Тех, кого в 30-х уничтожили, обвиняя в национализме, достают их из ям и уничтожают повторно, но уже за коммунизм. “Декоммунизирующий” взгляд на украинский авангард по сути сводится к этой операции.
“Повторение забывания” — о знаках, оставшихся в публичном поле, но настойчиво указывающих на нежелательные идеи и исторический опыт. О формах, из которых идеологическим функционерам приходится все время изгонять смысл, чтоб не пришлось их с корнями выкорчевывать из истории и оставлять неаккуратную дыру на их месте. Украинское не-соцреалистическое искусство XX века есть собрание таких форм. Соцреалистическое же еще “прижизненно” нейтрализовало само себя, поэтому из него желающие могут сегодня извлекать бесконечные комические эффекты.
Эта выставка — о культивируемом сегодня отношении к украинскому авангарду 20-х годов. О том, как из авангардистов делают жертв невинных и безответных. О попытках оторвать радикальные художественные преобразования от политических. И о том, как вся эта деятельность сводится к акту повторного уничтожения наследия украинского авангарда.
— В одном интервью, вы прокомментировали, что можно было бы по другому совершать декоммунизацию. Например, рядом с памятником чекистам разместить текст об их преступлениях. Какой ваш идеальный вариант декоммунизации?
Комментировать несложно, но в то же время там ребята быстрее отбойным молотком работают, чем я комментирую. Очевидное несовпадение скоростей. Но если удастся докричаться о возможности других подходов к работе с советским наследием, то что я бы предложил ре-политизировать сам способ взгляда на него.
Когда люди различных гуманитарных занятий, чаще всего с либеральными политическими взглядами, в Украине выступают в защиту какого-то советского памятника, они говорят: “изображения не виноваты”. Говорят, что это искусство “качественное” (ненавижу это определение когда оно применяется к искусству). Что Щорс — это “качественная” конная статуя.
Конечно, памятники виноваты. Инструменты пропаганды несут вину своего политического проекта. Но именно поэтому не стоит уничтожать то, что могло бы стать колодцем, откуда бы мы черпали чувство вины, необходимое для того, чтобы мы научились видеть самих себя.
Да, рядом с памятником чекистам, не будь он разрушен, можно было бы разместить текст, о том, что собственно делала ЧК. Так возник бы ансамбль с совсем другим смыслом. Сейчас же на площади просто освободилось место для ларьков, а возможности памяти не состоялась.
Для меня нет “идеального варианта декоммунизации”. Я в принципе против того, что сейчас называется “политкой декоммунизации”. Я за сохранение памяти о преступлениях и за постоянную проработку прошлого, “работу вины”, за то чтоб знаки вины оставались в городском пространстве. И еще за то, чтоб были открыты и стали общедоступными архивы советских спецслужб. И за то, чтоб общество попробовало жить постидеологической жизнью.
Я слушал в 2008 Лейпциге лекцию Базона Брока, теоретика, который был очень влиятелен в 1960-е. Он говорил о том, что художник не может следовать модели бога-отца — не может творить из ничего. И что художник действует по модели Христа — превращает воду в вино. Нужно реартикулировать и превращать, добавлять к идеологическому высказыванию тот элемент, который может привести в движение остальные его элементы и сделать понятной его конструкцию.
Открытый вопрос, идет ли в этом случае речь об элементе нейтрально-информационном или образном. Историку или все же художнику следует реартикулировать монументы?
— Почему вы говорите, что пора перестать разделять художников на поколения?
Какое-то время для нас, круга авторов, начавших в середине или второй половине 2000х, «идея поколения» была важной. Можно было производить какие-то антитезисы, ответы предыдущему поколению художников, выявлять свою форму через противопоставление.
Через некоторое время нас услышали и «поколенческий» способ описания украинской художественной жизни стал общим местом. Но это описание оказалось чрезвычайно упрощенным. Каждому поколению был выдан краткий набор характеристик, между старшими и младшими были прочерчены линии различения. Само собой, характеристики более ласкательные достались тому типу искусства, что больше подходит для местной продажи, – это легко объяснимо, если вспомнить о том, как приходится выживать самим комментаторам. Сыграл свою роль и всеобщий кризис артикуляции, привычка к эффектной фразе и неспособность выстраивать из этих фраз внятную последовательность.
Собственно, мы оказались лицом к лицу с ситуацией, когда основная часть нашей работы просто проходит мимо принятых в нашей стране способов комментирования искусства. Мы стали какими-то частичными невидимками. Например, выставки в Пинчук-центре или частных галереях здешней сцене видны хорошо, а самоорганизованные выставки – совсем нет. А ведь именно они для нас базовые, манифестационные.
Еще: в 2013 году мы приостановили взаимодействие с Арсеналом. Соответственно, Арсеналу срочно понадобилось заполнить пустоту на месте «молодого искусства». Так возник заказ на «третье поколение». Сейчас я с удивлением обнаруживаю, что люди, которые параллельно со мной заканчивали Киевскую Академию, являются уже следующим поколением в искусстве после моего. Ладно, пусть возрастная составляющая художественного поколения упущена, но ведь и с мировоззренческой составляющей слабо. Очевидно, новое поколение в искусство должно приходить с новым способом описания мира, причем этот способ должен объединять крайне разных авторов, не сковывая их. У меня есть скромная надежда, что я этими словами как-то провоцирую недавно начавших работать авторов сформулировать такой способ. Новых людей как раз хотелось бы, даже очень. И «молодым художником» я себя считать совсем не хочу. Впрочем, это эгоистическое.
Но описывать художественную ситуацию мне интереснее через «способы соотнестись с историей», которые могут объединять авторов разного возраста. Сама история, ее периодизация , будет делать очевидными различия.
Еще хочется не превратить все это в борьбу за власть, за то, кто будет “главным художником” . Кстати, в этих играх не обязательно, что «классик» главнее «молодого». Но сами игры ведь дурацкие, из них хочется выйти. Когда рушишь чужие подставки, нужно не бояться разрушить и свою.
— Вы часто общаетесь со студентами художественных специальностей. Какие сейчас тенденции среди них?
Основная тенденция среди студентов — это то, что людей достало. Собственно, Академия – это остров терпения.
Разрыв между состоянием художественного образования в Украине и состоянием искусства в мире стал таким, что уже и слов не найдешь чтоб верно охарактеризовать.
Но очень многие молодые люди, будучи в курсе этого разрыва, все-таки принимали решение смириться, ведь другого типа формальное художественное образование в Украине не получить. И вот период этого терпения кончается.
Многие требуют радикальной реформы образовательных программ, многие занимаются самообразованием. Собственно, самообразование и становится типом творческой практики. По крайней мере, так я понимаю деятельность независимо существующего «Курса современного искусства».
Другая тенденция: многие студенты адаптируются к ситуации google-доступности огромного количества несистематизированных знаний, к «машинкам без инструкций». И худо-бедно приноравливаются их использовать.
Так следом за ультраконсервативным искусством приходит эклектично-имитационное.
Имитируется, собственно, современность. Кто-то в 90-ые пошутил про «искусство в стиле contemporary art» — определение остается актуальным до сих пор.
— Вы говорили что украинские художники не музеефицированны. Изменилось ли что-то сейчас?
Наверное, мог и это сказать. Не то чтоб очень тонкое наблюдение.
Отсутствие адекватно записанной постсоветской (и неофициальной позднесоветской) истории искусства в Украине – это из ряда очень явных вещей. Этот дефицит музейности — напоминание о том, что история искусства есть часть истории всего общества.
Ключевой для меня пример – наследие художника Федора Тетянича. Пожалуй, это один из самых радикальных украинских авторов 1970-80х, художник, практика которого соотносилась со многими процессами в искусстве не-советского мира. И не то чтоб он совсем забыт и непризнан в Украине. Но его произведения – часто сделанные из различных “нехудожественных” материалов, просто из мусора – разваливаются на глазах, гибнут без профессиональной музейной заботы.
А в искусстве 1990х-2010х произведения стали заложниками вышеописанной “поколенческой” истории и сопутсвующей ей борьбы за власть. Печальна судьба работы, выпавшей из принятого в данное время способа описания. Будет тлеть где-то в тени, на краю видимости.
Еще: украинское искусство мало включено в международную циркуляцию. Здесь все по-прежнему довольно закрыто. В закрытой ситуации формируются иерархии для внутреннего пользования. Когда они сформировались, застыли, то тем, кто оказался на верхушке этих иерархий, уже меньше всего хочется, чтоб зашла международная экспертиза, какие-то «западные кураторы». Ведь возьмут, сволочи, да и поставят эти иерархии под сомнение, а ведь сколько труда в них вложено! Была такая выставка «На грани» — взгляд на украинские 90-ые поперек принятых здесь описательных моделей, еще и сделанная не-украинским куратором. У художественного сообщества она радости, мягко говоря, не вызвала. «Киевская школа» в 2015 тоже была таким вот нежеланным гостем.
Собственно, изоляционизм и та борьба за места в истории, которая не дает этой истории состояться – это то, что обессиливает здешний музей. Само собой, что и нищета.
Нищее положение культуры – часть общего «антиисторизма», превратившегося в принцип.
Другое дело, что у страны сейчас происходит «возвращение в историю». Но тут институции культуры явно в арьергарде.
— Самой обсуждаемой темой долгое время было новое здание Театра на Подоле. что эстетический опыт большей части горожан разительно отличается от эстетического опыта экспертов, «людей в теме». Но городское пространство — оно для всех. Что в таком случае делать — «воспитывать вкус», продолжать строить стекляшки и псевдоисторические дома или искать третий путь?
Проблема скорее в том, что для жителей города это здание оказалось сюрпризом. В непрозрачности принятия решений.
Также, проблема в степени связи формы и функции. Если посмотрите на репертуар “Театра на Подоле”, то, скорее всего, увидите некое противоречие между обликом здания и планируемым наполнением.
В отношении самой коробочки, домика, — это «цивилизованное» здание. В том же смысле, в котором киевская псевдоисторическая стилизация является «варварской». Но в сравнении с проблемами, названными выше, эта тема мне кажется чуть второстепенной. В такой бы последовательности проблемы и решать: вопросы социальные прежде эстетических.
Что еще увидел на примере этой истории: главной стратегией защиты здания Дроздова стала демонстрация какому-то обобщенному дремучему украинскому зрителю известных образцов мировой современной архитектуры. Демонстрация в исполнении авторитетных киевских интеллектуалов сопровождалась снисходительными комментариями, что, мол, и такие здания бывают и даже среди исторической застройки порой размещают их. Внимая поучению, я обнаружил даже несколько музейных зданий, где выставлены мои работы.
Этот «ликбез» и есть образец крайнего неуважения к аудитории и дешевой имитации экспертности. Он говорит: «Забудем критику конкретного здания, ведь надо защитить саму идею современной архитектуры от невежественных скотов, наступающих со всех сторон!».
Похожая история с конкурсным отбором проектов для Венецианской биеннале. Произошло нечто вполне катастрофическое, возникла брешь, которую срочно прикрыли фигурой классика Михайлова. Теперь же члены экспертной комиссии демонстрируют натужную веселость в связи с гневными комментариями не вполне компетентных людей по поводу “чернухи” и “демонстрации украинской нищеты для западного зрителя”. Это удобно, отвлекает от собственных проблем.
Как у Кавафиса:
“И что же делать нам теперь без варваров?
Ведь это был бы хоть какой-то выход.”
— Недавно вы получили премию Малевича. Подобные премии, награды дают признание и некую известность и деньги для реализации проектов. Для вас эта премия значима, какие возможности она дает? Какие институции в Украине вы считаете актуальными/неактуальными для поддержки художников, развития современного искусства?
Премия дала мне некоторый ресурс для работы и резиденцию в Варшаве в 2018 году (на 2017 мест уже не было).
Среди украинских институций я предпочитаю частные государственным. Если про государственные, то предпочитаю традиционные музеи учреждениям, занятым современностью. Если похвалить кого-то, то Центр Визуальной Культуры, Воздвиженскую 32, Closer, «Я галерею». Но тут слишком просто: кого хвалю, кого считаю «актуальными», с теми и сотрудничаю – и наоборот.
Отдельно упомяну Центр Курбаса – его сейчас Минкульт пытается уничтожить как научно-исследовательскую институцию, превратив в «культурно-просветительский центр», нечто фасадное, популяризаторское, просто популистское. Там в результате не будет места в том числе и современному искусству. Прошу считать это упоминание жестом солидарности с сотрудниками центра.
А, например, во Львове «для поддержки художников, развития современного искусства» больше, чем все крупные институции, делает галерея Detenpula. Художники из «Открытой группы» ее у себя на кухне открыли. Одна из опор художественной жизни в городе и в стране, серьезно.
Фотографии — Anastasia Blur, Владимир Денисенко, Bert de Leenheer.
Інші публікації
Популярное
В тренде