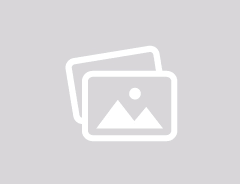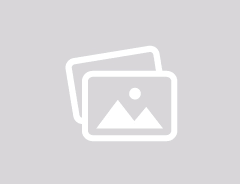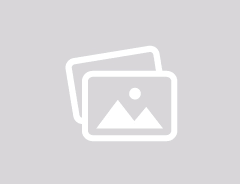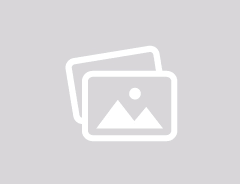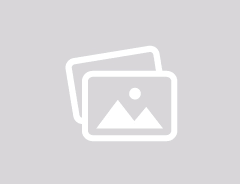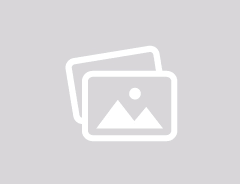Александр Авербух и язык неправильностей
Александр Авербух родился в 1985 году в Новоайдаре Луганской области. В 2001 г. переехал в Израиль, жил в Тель-Авиве, прошёл срочную службу в израильской армии. Окончил магистратуру Еврейского университета в Иерусалиме. С 2015 года — докторант кафедры славянских языков и литератур Торонтского университета. Переводит современную русскую и украинскую поэзию на иврит.
8 апреля в 17:00 в арт-пространстве Plivka в рамках фестиваля kyiv poetry week Александр презентует свою новую книгу «Свидетельство четвертого лица» (НЛО, 2017). В его стихах война в Луганске и Израиле, Холокост, депортация украинцев в нацистскую Германию, блокада.
Богатство языка неправильностей восстает из свидетельств, переписки, дневников простых людей, которые решаются говорить о своей жизни на пике трагедии.
Александр, стихи какого периода попали в книгу «Свидетельство четвёртого лица»?Долго пришлось собирать материал?
В этой книге собраны тексты, написанные после публикации первой книги в 2009 году. Писалось в разные периоды по-разному. До 2014 года я циклами не писал. После страшных событий 2014 года как в Украине, так и в Израиле – и там, и там шли параллельно войны – выговариваться короткими, одиночными текстами стало сложно, их не хватало. Не хватало и своего голоса. Появилась необходимость работать с целыми нарративами, которые вбирали бы разные голоса. У свидетельств ведь иногда, помимо исторической функциональности, есть еще и психологический эффект — некого облегчения, избавления от травмы, если угодно.
Мне было интересно, как люди на пике личных трагедий и катаклизмов рвались зафиксировать свое горе – письменно или устно, с ошибкам, как могли.
— Как часто приходилось перечитывать текст с начала, чтобы вернуться к темпу речи героинь и скорости событий?
По-разному. Это как слушать музыку: иногда слушаешь и молчишь, а иногда начинаешь подпевать. А бывает, что мелодия так въедается, что напеваешь ее день-два-неделю. Это еще очень похоже на изучение нового языка. Сначала студенты приходят и молчат, молчат, но внимательно слушают. А потом вдруг происходит какой-то прорыв, и они начинают говорить, причем не только повторять слова, а и имитировать интонации, даже мимику преподавателя. По особым оборотам и даже их ошибкам можно иногда определить, кто их обучал в прошлом.
Я вслушиваюсь в стиль и ошибки материалов, с которыми работаю. Язык неправильностей — самое ценное для меня в них.
— В книге ощущается пунктир: любовь-война-жизнь-смерть и снова жизнь. Такой порядок был частью авторской композиции или его определил составитель? Какова вообще роль составителя в работе с такими объёмными/неделимыми циклами?
Мне сложно выделить какие-то конкретные мотивы в конкретных циклах. Там везде и война, и любовь, и смерть и жизнь. С композицией книги, с последовательностью циклов мне помог Дмитрий Кузьмин, которому я очень благодарен за все.
— Документалистка Марина Разбежкина считает, что снимать честно можно только из так называемой «зоны змеи», когда близость выходит на уровень опасности. Насколько близко вы подходите к вашим свидетелям?
Я бы сказал, что в моем случае все наоборот. Чтобы начать писать, нужно было максимально удалиться от событий. Это дает несколько иную перспективу. Т.е. переживания важны (как реальные происшествия, так и «вбирание» в себя текстов, когда их читаешь, думаешь над ними), но для переработки все-таки полезна удаленность – как географическая, так и эмоциональная. Большинство текстов написаны уже в Торонто.
— Будут ли новые свидетели? Есть соблазн продолжить собирать документальное войско?
Вслушиваться в голоса стало зависимостью. Мне неинтересно писать «от первого лица», когда вокруг такое богатство.
Я занимаюсь сейчас материалами времен Второй мировой войны. Это тексты на суржике, который все время извивается и ускользает от норм русского или украинского языка. Мне этот язык приятен на каком-то физиологическом уровне. Он свободный, и мне хочется научиться на нем говорить.
— Стихи в книге не предупреждая переходят с русского на украинский, с немецкого на иврит. Дополнительный языковой вектор восприятия, такой труд для читателя — это камертон тонкой настройки или попытка обязательно засвидетельствовать язык?
Да, конечно, речь, которая уже исчезла или исчезает, должна остаться звучащей хотя бы на бумаге – со всеми неожиданными переходами с языка на язык, с ошибками, диалектами, говорами.
Это как ноты, которые могут казаться на бумаге немыми крючочками, пока их кто-то не сыграет. Хотелось бы, чтобы эти тексты тоже «зазвучали» живой речью людей, которые когда-то были лишены голоса.
— Документальный текст — часто это речь упрощённая, существующая, без оттенка новых значений. Сложно ли было найти тот порог выражения, за которым начинается поэзия? Нужно для этого включать не только личное проживание, но и вводить дополнительный голос, свою историю?
Иногда нужно, а иногда и нет. Я, конечно, стараюсь не «вмешиваться», но порой удержаться просто невозможно. Знаете, иногда услышишь какой-нибудь язык и думаешь, какой он красивый, вот бы выучиться на нем говорить. Так и тут. Я не уверен на счет простоты этой речи. Мне кажется, что как раз своими изгибами и срывами, тягой к свободе она усложняется и становится непредсказуемой, эмоциональной, порывистой, гибридной. В эти порывах я и ловлю ее «на поэтичности», выстраивая некоторую траекторию высказывания.
Новый автор – это ведь только (об этом уже столько говорено) регистратор, комбинатор, организатор текста.
Это совсем другого рода субъективность, ставящая под вопрос институцию авторства. Как концепция она надламывается и приспосабливается к новым практикам работы с текстом. Все это приводит к вопросам об аутентичности – актуальна ли она в мире, наполненном другими голосами, документами, дискурсами – и кто в этом потоке – составитель текста?
— Говоря о детстве в Луганской области. Теперешняя война запустила механизмы сентиментальности? Воспоминания изменились? Или в сердце не существует времени?
Время существует. Но то, что Вы называете «механизмами сентиментальности», я бы назвал импульсами, усиливающими высказывание.
— У Павича в романе «Ящик для письменных принадлежностей» герой после войны решил «быстро и легко забыть сербский». И начал с имён своей семьи. Как на фоне военных действий вы ощущаете русский язык?
Мне было очень сложно с языком после того, что произошло на Востоке. Я начал писать на украинском, когда начались все эти события. Я очень много общался с украиноязычными друзьями из Львова, Киева. Потом я начал ломать свой русский. У меня пошли стихи на исковерканном языке. Перестать пользоваться русским в моем случае было бы не очень сложно – дома я общаюсь на иврите, на работе – тоже на других языках (в Израиле это был иврит, в Канаде – английский).
Тут просто нужно понять, что Россия и русские не имеют эксклюзивного права на русский язык, литературу и культуру, как и Украина и украинцы — на украинский язык.
— На каком языке вы сейчас думаете?
Поскольку этот разговор ведется на русском, я думаю на этом языке. Иногда, когда пользуешься несколькими языками (больше чем двумя), то заговариваешься (сколько раз случалось, что, когда я преподавал украинский или русский, у меня вырывались фразы на иврите). Это, наверно, индикатор того, на каком языке человек думает. Или же того, что у него в голове каша ☺
— Что значит для вас быть билингвальным поэтом? Вы в этом чувствуете дополнительную ответственность или задачу?
Это скорее обстоятельства, чем задача.
Быть билингвальным или трилингвальным поэтом (или просто человеком, пользующимся ежедневно несколькими языками) – для меня это постоянное ощущение, что ты на костылях, потому что ни одним из этих языков ты не владеешь полноценно и ни на одном из них тебе никогда не выговориться.
Беседовала Лена Самойленко
фото: Гали-Дана Зингер