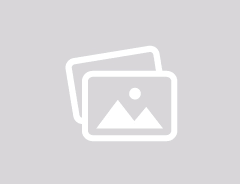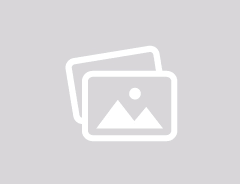Искусство на кушетке: волос тревоги Элис Андерсон
Её называют хозяйкой Медной Горы, но чаще сравнивают с Рапунцель. О ней пишут “The Guardian” и “Observer”. В три года мать француженка увезла её из Лондона в Ниццу, стараясь вытеснить из памяти любые воспоминания об отце англичанине. Её ярко-рыжие волосы преобразовывают реальность. Она работает с памятью, временем и страхом. Наш разговор об Элис Андерсон закрутился вокруг психоаналитического понятия «fort-da», концепции симулякра и закончился хронологией стыда, но, конечно же, это был для всего лишь повод обсудить мультик «Смешарики» и рассказать анекдот о психоаналитике.
Это наша рубрика «Искусство на кушетке», в которой мы разбираем творчество современных художников вместе с искусствоведом, психоаналитиком и философом.
Элис Андерсон — родилась в 1972 году в Лондоне в семье французской еврейки и англичанина. Обучалась изящным искусствам в École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Париж) и Goldsmiths College (Лондон) В 2010 году прославилась инсталляцией с тоннами рыжих волос в Королевской Опере. Выставлялась в Saatchi Gallery, Espace Culturel Louis Vuitton, The Pompidou Centre, Tate Modern, The Grand Palais и др. Основной материал для её работ — медная проволока, а также рыжие кукольные волосы. Создает перфомансы во время которых работает босиком, выбирая в сопровождение звук крутящейся проволоки.
В разговоре участвуют:
 Татьяна Цвелодуб — психоаналитик (окончила Международный институт глубинной психологии (Киев)), Восточно-европейский институт психоанализа (СПб), искусствовед (диплом Национальной академии искусств и Киев). Сооснователь Dream Projects — междисциплинарного центра развития искусства и культуры (Украина, Грузия). Сооснователь, куратор проекта «Музей Сновидений» (Киев).
Татьяна Цвелодуб — психоаналитик (окончила Международный институт глубинной психологии (Киев)), Восточно-европейский институт психоанализа (СПб), искусствовед (диплом Национальной академии искусств и Киев). Сооснователь Dream Projects — междисциплинарного центра развития искусства и культуры (Украина, Грузия). Сооснователь, куратор проекта «Музей Сновидений» (Киев).
 Георгий Незабитовский — кандидат философских наук, выпускник кафедры логики философского факультета КНУ им. Тараса Шевченко, эссеист, журналист. Область научных интересов: логика творчества, эвристика, методология ведения творческой деятельности, теория аргументации.
Георгий Незабитовский — кандидат философских наук, выпускник кафедры логики философского факультета КНУ им. Тараса Шевченко, эссеист, журналист. Область научных интересов: логика творчества, эвристика, методология ведения творческой деятельности, теория аргументации.
Катерина Чудненко — журналист, пишет про современное искусство и психологию.
Катерина Чудненко: Егор, в прошлый раз из списка современных художников ты выбрал Кейт Макгвайер, на втором месте оказалась Элис Андерсон, которую мы собираемся обсуждать сегодня. Можешь ли ты провести параллели между этими двумя авторами?
Георгий Незабитовский: Обе художницы удивительно нестандартно воспринимают реальность и ретранслируют её, поэтому сразу задаешься вопросом: что такого они видят, чего не замечаем мы? Они оперируют очень простыми концептами: простые формы, простые идеи, которые, по итогу, оборачиваются чем-то большим.
Татьяня Цвелодуб: Обе художницы выставлялись в музее Фрейда в Лондоне. Мне всегда интересно, как приглашенный художник выстраивает отношения с местом, где выставляются его работы. Например, Элис обматывала дом нитками и работала с самой архитектурой здания.

Сначала родоначальнику психоанализа было непонятно, почему малыш повторяет такое, казалось бы, бессмысленное действие много раз. Потом он заметил, как тот же внук обращается со своими игрушками: он их относит в дальний угол и говорит «вы умерли», потом возвращается, словно заново находит, «оживляет» и искренне радуется этому воскрешению. Возможно, предположил Фрейд, таким образом малыш пытается хоть как-то справиться с ощущением тревоги, атмосферой войны, которую ребенок пока осознать и переварить для себя не в состоянии.

Далее, на неё намотана медная нитка, которая очень напоминает основной материал, с которым работает художница — рыжие кукольные волосы. То есть очевидно, что здесь Элис Андерсон берет теорию Фрейда и переосмыслят её через своё понимание. Возникает вопрос — почему именно так? Оказывается, есть у художницы её личная история…

К. Ч. Подождите. Предлагаю нагнетать интригу. Егор, твоё предположение — почему Элис Андерсон выражает себя именно таким образом?
Г.Н. Если говорить про контроль и тревогу, то для меня проще всего будет раскрыть их связь через понятие ритуала. Сам ритуал – это определенное действие или набор действий, сопровождающих определенный религиозный акт. Сегодня эти действия распространены повсюду, не только в религиях. Творчество Андрсон, как по мне, помогает содержательно анализировать концепцию ритуала в человеческой культуре; в первую очередь — через призму перформансов, которые делает художница. Тут уместно будет вспомнить Леви Стросса, который говорил, что в племенных обществах ритуал — главный формирующий элемент, именно благодаря нему люди чувствуют себя единым целым. В современности таких возможностей не так уж много, повседневная жизнь нас почти не единит: мы хоть и являемся частью коллектива, но работаем, чаще всего, сами по себе; добираемся в офис в толпе, но и в одиночестве в то же время. И только когда выходим в курилку с коллегами, происходит нечто вроде ритуала общения, мы можем почувствовать себя частью микросоциума.
Как мне кажется, Элис Андерсон очень хорошо прорабатывает эту тему именно в перформансах: она показывает нам действие, в которое вовлечены несколько людей, и процесс их взаимодействия важнее, чем результат. Обычно говорят, что современный художник всегда протестует против чего-то, но в этом случае, и тут я согласен с Таней, происходит скорее попытка показать иллюзию контроля.
Есть и другие работы, в которых просматривается эта идея. Вот, например, пистолеты, замотанные проволокой — это же манифест против насилия, причем сдерживаемого.
Она не говорит «я против», она показывает «вот есть такое явление «насилие», и я его контролирую».
Для меня это — потрясающий парадокс, потому что когда художник находится в процессе творения, он действует в области непознаваемого, хаотичного, но в процессе придает этому хаотичному определенную форму, заполняет мир чем-то понятным и даже не столь понятным, сколько познаваемым.
Катерина Чудненко: Познаваемым или знаковым?
Г. Н.: Да, именно знаковым! Опять семиотика. Если брать ту же Кейт Макгвайер, нашу предыдущую героиню — она работает с безумными формами, тем самым предстает непонятной, вызывая состояние тревоги у смотрящего.
Элис Андерсон более понятна. Но вот мы смотрим на её серию memorized objects и видим телефон, обмотанный волосами. С одной стороны, это просто обычный предмет из нашей повседневности, заключенный в странную оболочку. Но, с другой стороны, из-за того, что он обмотан волосами, мы не можем быть до конца уверенны, есть ли в ней тот самый телефон или вообще хоть что-то, может там просто пустота — такой себе телефон Шредингера. Тут сам собой напрашивается разговор о симулякрах.

К.Ч. Подожди, давай до симулякров еще немного исследуем вопрос тревоги. Таня, ты хотела нам рассказать, почему Элис Андерсон использует волосы как материал в своей работе
Т.Ц. Есть такой мультик «Смешарики». В нем главная героиня Нюша однажды встречает Черного Ловеласа и это её очень сильно пугает, она погружается в тревогу. Ей на помощь приходит мудрая сова, которая показывает картинки и спрашивает: «Что ты здесь видишь?»
И почти на каждый вопрос она отвечает: «Вижу Черного Ловеласа!». И вот, наконец, Нюше показывают картинку, на которой нарисован желтый зонтик, все облегченно вздыхают, но героиня добавляет: «За которым скрывает Черный Ловелас »
Это я всё к чему: французский психоаналитик Франсуза Дальто как-то сказала «Все говорят о детях, но никто не говорит с детьми».
Нам может только казаться, что на рисунке, который нарисовал ребенок изображено солнышко, или домик, или Смешарик, но неплохо бы спросить у него самого, какое значение он придает нарисованному?
Так вот, как завещала великая Дальто, мы можем не предполагать, а спросить саму художницу о смыслах, которые она закладывает в свои работы. Не напрямую, конечно, но есть тексты в которых она рассказывает о себе.
Элис Анредон говорит, что работает со своим воспоминанием из раннего детства, когда
она была вынуждена оставаться одна в комнате без мамы. Она смутно предполагает, что в тот момент у неё еще не было сформированного понятия времени: она не понимала как долго мама будет отсутствовать, и вернется ли она вообще.
Но она четко помнит, что в этом состоянии она изобретает свой уникальный метод справляться с тревогой: её собственные рыжие волосы, которые можно наматывать на палец и разматывать обратно. По большому счету то, что она делает сейчас в своем творчестве — это воспоминание, увеличенное до огромных масштабов.
К.Ч. Тогда у меня вопрос: где проходит граница между ритуалом, борьбой с тревогой, как жестом художника, и обессивно-компульсивным расстройством? 
Г.Н: Могу попробовать прокомментировать это с социально-философской точки зрения, а не психоаналитической. Есть понятие социума, и есть понятие реальности, их часто путают. Подавляющее большинство обыденных, не сакральных ритуалов сегодня — это средство для интеграции в социум. Обсессивно-компульсивное расстройство — это попытка контролировать реальность.
а) что является нормой общества?
б) когда художница собирается вместе с другими людьми и начинает обматывать шарф проволокой, является ли это социальным актом?

Т.Ц. На самом деле, нормальность и адекватность — это просто вопрос культуры (привет Фуко). Например, мы все знаем, что ненормально бить людей куриной косточкой по голове. Если какой-то незнакомый человек стукнет меня, я как минимум обижусь или разозлюсь, а, возможно даже вызову полицию. Но если это же действие совершит шаман из Гватемалы, я, возможно, проявлю к нему терпение и дружелюбие: все-таки человек из другой страны, не понимает, что у нас так не принято. Теперь давайте посмотрим, как изменится моё отношение, если этот же шаман ударит меня этой же косточкой, только уже не в Киеве, а в городе Антигуа возле священных руин древнего города? А теперь если внести поправку на то, что я была рождена и воспитана в Гватемале и знаю, что этот шаман только что благословил ударом меня на долгую и счастливую жизнь?
Г.Н. Шаман имеет право бить людей косточкой потому что его действия сакрализированы, потому что существует некая договоренность о том, что считать сакральным. Точно также он может не просто бить, но и производить болезненные действия с другим человеком: например наносить татуировки, выжигать знаки на коже и т.д. При этом, указать на ошибку и сказать шаману, например, что священную метку тебе, вообще-то, выжгли не на той ягодице, имеет право только другой шаман. Простой человек не уполномочен вмешиваться, это вне его компетенции. В поле сакрального шаман — просто проводник, и даже если он ржавый проводник, священный ток все равно идет.
К.Ч. Кстати, по моему мнению, это одно из главных отличий психотерапевта от священника. И тот, и другой имеет дело с чем-то непостижимым, психическим. Но первый не наделяется статусом проводника Божьей Воли. Если психотерапевт облажался, то он облажался. Его работа — вопрос профессионализма, а не божественного присутствия.

Г.Н. Получается, что мы должны разграничивать два понятия травмы: травмы как чего-то калечащего, которая случается внезапно и не вписывается в понятие культурной нормы; и контролируемая травма, которая предстает обрядом инициации — да, я претерпел определенную боль, но этой болью я заплатил за то, чтобы быть частью некоего социума.
Еще хотел вспомнить про антрополога Бронислава Малиновского, в понимании которого ритуал — это попытка справиться с кризисом. Например, похороны — контролируемый ритуал горевания; свадьба — отделение детей от родителей, и так далее.
Точно так же люди, которые участвуют в перфомансах Элис Андерсон, становятся частью какого-то сообщества, проходят некое посвящение. По окончанию этого процесса в них что-то меняется.
К.Ч. Я бы хотела вернуться к вопросу симулякра в творчестве нашей героини. Егор, ты уже упоминал о нем в начале разговора, не мог бы ты теперь углубиться?
Г.Н. Симулякр — это некий знак, который не имеет реального аналога в существующем мире. Это гиперреальность: то, что мы осознаем, но не можем понять, чему оно соответствует как языковая единица в наиболее широком толковании. Вот как на этих объектах Шредингера, о которых я уже упоминал. Здесь нарушаются отношения между означающим (что мы обозначаем) и означаемым (какой смысл мы закладываем в этот знак)
То есть мы понимаем, что вот это по форме похоже на телефон, но не понимаем, что нам делать в реальном мире с таким объектом. Или вот, например, что это?

Т.Ц. Для меня похоже на лампочку
Г.Н. А я говорю, что колокольчик. То есть мы даже не можем определить, что это за знак, чего уже говорить о его значении. В мире реальных вещей мы все привыкли рассматривать с точки зрения функционала: телефон для разговоров; лампочка для света. Элис Андерсон куда «страньше», она дает нам, казалось бы, знакомые предметы и в то же время как бы заявляет: вы не можете объяснить, что это такое и зачем оно нужно — гиперреальность в чистом виде.
И здесь неизбежно возникает вопрос: не являются ли эти предметы самодостаточными и нуждаются ли они вообще в определении?

К.Ч. В нашем прошлом разговоре о Кейт Макгвайер мы рассуждали о том, что она одновременно жуткая и красивая. Мне кажется здесь наблюдаем то же самое: красивые рыжие волосы, но в то же время, они несут в себе некую тревожность.
Т.Ц. Вспомнилась фраза Гришковца: «Мама меня любит, всего любит, но когда я отрезал ноготь, этот ноготь уже не нужен». С волосами то же самое: мы любим рыжие волосы, но если они у нас в супе или где-нибудь еще, это отталкивает.
Г.Н. Да, потому что человек всегда стремится выстроить структуру, в которой все должно быть правильно. Есть структура, где у каждого есть свои волосы, но они не перемешиваются и функционируют только на живом организме. Если это правило нарушается, значит, что-то не работает, значит, ничего не работает, значит, вокруг хаос и не на что опереться. Опять же возвращаемся к теме тревоги.
Т.Ц. Как и в случае перьев Кейт Макгвайер, волосы, которые растут на теле -это прекрасно, мы можем найти для этого оправдание. Если мы их сбриваем, выщипываем, если они растут не там где положено, если я рассказываю, что делаю со своими волосами, которые растут не там, где положено- это стыдно.
Г.Н. Кстати, у меня вопрос: не стыдно ли смотреть на такое?

Т.Ц. Сейчас уже нет, но лет сто назад…
К.Ч. Отлично, давайте опять пройдемся по историческому контексту. В архаике это было бы стыдно?
Г.Н. Нет, в архаике не было стыда как такового, прежде всего потому, что не было четкой сепарации между телом отдельного человека и телом общины. Тебе не могло быть стыдно за то, что тебе не принадлежит.
Т.Ц. А за что тогда было?
К.Ч. За то, что можешь не вписаться в общину.
Г.Н. Да, в современном обществе стыд бывает разный: от легкого и вполне переносимого, до токсического, и между ними множество вариантов. Что касается первобытного общества, там было такое себе нарастающее ощущение самоосуждения за нарушение запрета, которое буквально сжигало дотла. Стыда как такового не было: всё сразу настолько плохо, настолько непереносимо, что ты умираешь.
Т.Ц. А Лакан говорил, что еще никто не умирал от стыда.
Г.Н. Думаю, в этом он ошибается.
Т.Ц. Кстати, вспоминала книгу, по которой экранизировали фильм «Звонок». В ней хорошо описывается момент, когда девочка начинает вылазить из телевизора: герои ощущают жгучее чувство стыда, просто непереносимое, какое-то чувство отчуждения, а им даже не говорят за что.

К.Ч. Что происходит в античности?
Г.Н. В античности уже могло быть стыдно. Есть понятие гражданина и есть явление его включенности в общество. Стыд проявляется именно в контексте участия в общественной жизни. Например: «Почему все выступили на Форуме, а ты молчал? Объясняй!»
Есть также вопрос стыда в телесности. Статуя с обнаженным фаллосом будет прекрасной в качестве элемента культа Диониса. Но если бы древний грек увидел современную рекламу, где, например, обнаженная женщина в бикини продает строительные материалы, ему стало бы до жути стыдно. Во-первых, изображение такого огромного размера означает, что это — богиня. Во-вторых, богиня раздета, а значит, его ждет невероятная кара, за то, что он это увидел. Потому что, вообще-то, стыдно подглядывать за обнаженными женщинами.
К.Ч. Средневековье?
Г.Н. В Средневековье стыд был одним из главных средств для управления обществом: не дай Бог сделать что-то запретное. Но на первый план выходят скорее этические вопросы, чем телесные. Вопреки распространенному представлению, сексуальность не была такой уж запретной: довольно легко представить себе пир, где король благосклонно щупает за грудь очередную наложницу, а рядом бегают его дети. Не говоря уже о том, что во многих городах того периода, вообще-то испражнялись с балконов.
К.Ч. Возрождение?
Г.Н. Думаю, стыдно было бы за невыполнение каких-то социальных норм, но за телесные и культурные действия вряд ли. Человеку в то время позволялось многое.
Т.Ц. Смотря какому человеку, женщине вообще ничего не позволялось. Одно дело, если бы Рафаэль сделал заколку из волос возлюбленной, другое если бы в Возрождении появилась Элис Андерсон с заколками из своих волос.

К.Ч. А что происходит со стыдом в наше время? Нам хоть за что-то стыдно сейчас?
Т.Ц. В наше время телесность прет отовсюду и стыдно ею не наслаждаться. Стыдно не «уметь» получать от этого удовольствие
Г.Н. Да, это потрясающий парадокс: у нас есть всё, и нам за это стыдно

Інші публікації
Популярное
В тренде